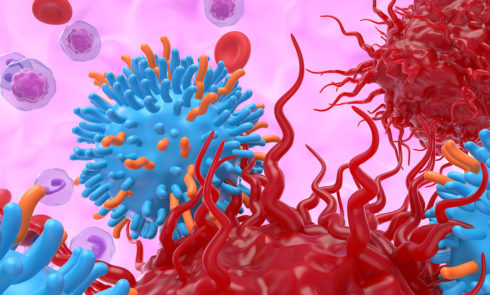Анестезиолог-реаниматолог Александр Бочаров пять лет работал в Калужской больнице скорой помощи и пытался, как он говорит, «менять систему изнутри»: ездил по стране, повышал квалификацию, пытался внедрять новые методики, конфликтовал с руководством и даже завел свой ютуб-канал, где рассказывает об изнанке российской медицины. Активность Бочарова стоила ему работы — конфликт с начальством вынудил его уйти из госсектора, однако прекращать борьбу с системой он не намерен. Бочаров рассказал «Холоду» свою историю и объяснил, что не так с российской медициной.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
Я вырос в маленьком поселке Калужской области. Отец учил девятиклассников ездить на тракторах, мама работала бухгалтером и оператором автозаправки. Я же хотел заниматься чем-то поинтереснее, поэтому после окончания школы в 2011 году я поступил в Смоленскую государственную медицинскую академию. На втором курсе попал на летнюю практику в областную Калужскую больницу. Практика вообще была сестринская и не предполагала, что меня будут учить чему-то новому. Я думал, что мне поручат измерять давление, делать уколы, разводить антибиотики. Но мне в наставники попались потрясающие врачи-реаниматологи. Они показывали мне, как реанимировать больных, и позволяли под присмотром выполнять более сложные узкоспециализированные врачебные манипуляции, такие как интубация и постановка центральных венозных катетеров. С тех самых пор я загорелся реанимацией.

Вернувшись с практики, я на третьем курсе пошел работать санитаром в детскую реанимацию в Смоленскую областную больницу. Мыл там полы, ухаживал за детьми. Постоянно получал от сестер за то, что брал детей на руки, пел им колыбельные и успокаивал их, когда они плакали. Почему-то считалось, что нельзя приучать маленьких к рукам, а я до сих пор считаю, что только так к детям и надо относиться — с любовью и заботой, даже если ты им чужой человек.
На четвертом курсе я получил аттестат, позволяющий работать медбратом, и устроился в Смоленский областной онкодиспансер. Больше зарабатывать с повышением квалификации, как ни странно, я не стал. Когда я работал санитаром на полставки в 2013 году, я получал 11 тысяч рублей, а в следующем году, работая медбратом на полставки, еле наскребал 9 тысяч.
Иногда младший медицинский персонал в России действительно зарабатывает больше квалифицированных специалистов. Так, в 2018 году медсестры из Забайкальского края и Челябинской области жаловались, что санитары стали зарабатывать больше, чем они, несмотря на отсутствие у последних профильного образования. Тогда повышение заработков санитаров объяснили майскими указами президента. Согласно им, зарплата младших медицинских работников в 2018 году должна была достигать уровня средней зарплаты по региону. Поэтому санитарам резко повысили зарплату, и в ряде регионов это привело к тому, что санитары стали зарабатывать больше медсестер.
Источник «Холода», работавшая в системе российского здравоохранения в 2010-х годах, говорит, что разрыв в заработках квалифицированных медработников и санитаров в пользу последних мог появляться и из-за того, что большая часть зарплаты складывалась из стимулирующих выплат, а сама ставка оставалась низкой. В случае дефицита санитаров в больнице санитары получали высокие стимулирующие выплаты из-за количества выполненной ими дополнительной работы и в итоге зарабатывали больше медсестер.
Задавать вопросы тут не принято
В 2019 году я окончил ординатуру и попал в Калужскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Это большая больница с двумя лечебными корпусами. Туда привозят людей с травмами, аппендицитами, переломами, кишечными непроходимостями, гинекологическими и урологическими патологиями и чем только не. Вся неотложная хирургия Калуги и нескольких районов области проходит именно там.
Объем работы был огромным. В восемь утра у нас начинался обход в реанимации. Заведующие всех отделений, заместитель главного врача, реаниматологи, которые сдавали дежурство и те, кто пришел из дома, обходили все койки, осматривали пациентов, обсуждали их динамику. Дежурившие реаниматологи докладывали, что произошло с каждым пациентом за сутки, и делегация решала, что делать дальше: кого стоит прооперировать, кого оставить в отделении, кого перевести, кому назначить процедуры. После этого начинался мой рабочий день.
У нас всегда должны были дежурить два реаниматолога и один анестезиолог. Кто ты сегодня — определял график. В дни, когда мне выпадало выполнять функции анестезиолога, я шел в операционную и целые сутки оказывал неотложную помощь там; когда дежурил в качестве реаниматолога, занимался больными в реанимации. В конце суток я каждый раз был выжат как лимон, а еще нужно было провести осмотр в восемь утра и в девять быть на общей врачебной планерке, где главврач и его заместители могли в любой момент спросить у тебя про состояние конкретного больного, и ты должен был не ударить в грязь лицом.
Помимо действительно важных вещей на этих планерках нередко обсуждались и какие-то абсолютно пустяковые вещи. Например, каждую пятницу экономисты зачитывали нам отчет о том, сколько денег заработала больница на платных услугах. Еще нам нередко устраивали публичные выволочки.
Например, поименно называли людей, которые допустили орфографические ошибки при заполнении медицинских карточек, и их журили. В таких случаях летучки могли длиться три часа — до полудня. Я до сих пор не понимаю, зачем надо тратить время специалистов на такую ерунду. В это время отдежурившие врачи могли бы отсыпаться и набираться сил для следующей смены, а только пришедшие — спасать людям жизни.
Негодование у меня вызывала не только нецелесообразность бессмысленных планерок, но и то, что в больнице часто творился бардак. У нас отделение реаниматологии и операционные располагаются на разных этажах. Нередко из-за нехватки людей я работал и реаниматологом и анестезиологом и дежурил сразу на двух этажах. А этого делать по правилам никак нельзя. Анестезиолог не имеет права покидать операционную, а реаниматолог — реанимацию. Мне же, как и всем, приходилось нарушать это правило.
Однажды в Калуге был сильный гололед, и нам привезли 50 человек с травмами в больницу. У меня в графике значилось — реаниматолог, но параллельно работе в реанимации я еще проводил анестезию, бегал от одного операционного стола к другому, некоторые анестезии проводил вообще одновременно. Когда я бегал на другой этаж, мои пациенты в реанимации оставались на попечении медсестер.
У нас в больнице всегда работали суперопытные медсестры, и я знал, что могу на них положиться. Но вообще бросать больных в реанимации нельзя — это неправильно и опасно. Мне известны случаи, когда на моих коллег возбуждали уголовные дела, потому что те из-за беспечности администрации работали в таком режиме. Когда анестезиолог-реаниматолог сразу и везде, может случиться что угодно. А ответственность в итоге понесет врач, а не его начальник, который составил ему такой график.
Особенно меня поражало, что больница такого уровня до сих пор использует закись азота как основной анестетик при общей анестезии. Я читал о нем в учебниках, но до БСМП никогда не применял его на практике. Он по праву считался недостаточно сильным средством для анестезии и не использовался даже в самых скромных больницах Смоленской области, где я работал. Сейчас весь мир использует современный ингаляционный анестетик Севоран, а закись азота считается пережитком времени (в 2018 году около 60% отделений анестезиологии все еще использовали закись азота, более свежих данных нет. — Прим. «Холода»).
В Калужской БСМП это средство же до сих пор используется. По сути пациентов глушат с помощью наркотических анальгетиков и обеспечивают им легкую дремоту с помощью закиси азота. В моем понимании как врача-анестезиолога, этот метод анестезии — ни о чем, к тому же он неизбежно приводит к тому, что пациент дольше выходит из анестезии, а также увеличивает частоту развития послеоперационной тошноты и рвоты. Вдобавок ко всему он еще и опасен для людей с кишечной непроходимостью, а мы часто оперировали пациентов с такой патологией.
Я не хотел подвергать пациентов риску и стал спрашивать у начальства, когда у нас появятся нормальные препараты. Я не предлагал им тратить миллионы рублей на какие-то супердорогие экспериментальные препараты, а спрашивал про абсолютно базовые средства. Несмотря на это, начальство от моих предложений бесилось, заведующая отделением просила не ломать то, что прекрасно работает, и козыряла своим 30-летним стажем работы, коллеги тоже крутили пальцем у виска и недоумевали, чего это я лезу на рожон.
Наш старый анестезиолог призывал не лезть в разборки сильных мира сего, говорил: «Мы с тобой такая мелкая трава, что когда ее косят, то нас даже не задевают». И его совету безоговорочно внимали все сотрудники — у нас в больнице не было принято задавать вопросы и критиковать начальство. Поэтому, когда я стал вести себя «неудобно», начальники это сразу заметили и принялись всячески меня гасить. После того как я пообщался с заведующей про анестетики, меня стали чаще призывать к ответу на осмотрах и планерках.
Однажды мы стояли в коридоре после обхода больных, заведующая спрашивала про наших пациентов. Я не смог ответить на один из ее вопросов: мне не успели прийти его анализы из лаборатории, в тот день лаборатория была загружена и задерживала анализы многих больных. Когда мой коллега рассказал о том, что до сих пор ждет анализы своего пациента, заведующая никак на это не отреагировала. А на меня раскричалась и стала требовать, чтобы я тотчас пошел в лабораторию и поторопил их. Меня ее крик поверг в замешательство, я не хотел учинять скандал, просто был шокирован ее тоном и оттого завис на несколько секунд, не сразу побежал выполнять ее приказ. Тогда она впридачу дала мне подзатыльник — якобы для того, чтобы я не медлил.
Вот это меня уже совсем выбило из колеи — я никак не ожидал, что ко мне будут употреблять рукоприкладство в больнице. Я сказал ей, что так со мной вести себя нельзя, развернулся и ушел. Через два дня заведующая зашла в ординаторскую, где находился я и еще трое моих коллег, и попросила у меня прощения, сказала, что перешла черту. Но радоваться было рано — свою речь она закончила оповещением о том, что лишает меня 25% стимулирующих выплат. Якобы она посмотрела истории болезней моих пациентов, которые я заполнял, и обнаружила в них ошибки. Что это были за ошибки, она при этом не уточнила.
Стимулирующие выплаты составляли большую часть моего заработка: я получал 19 тысяч рублей оклада, а все остальное — ночные часы работы и интенсивность — засчитывалось в стимулирующую надбавку. И ее сокращение сильно по мне ударило. Но спорить с заведующей я тогда посчитал бессмысленным. Она явно точила на меня зуб, а усугублять конфликт я не хотел. К тому же стимулирующие выплаты она всегда присуждала как будто наобум: никто не знал, как именно они рассчитываются. В какой-то месяц могли прийти выплаты в размере 70 тысяч рублей, в какой-то — 30, притом, что ты отработал одинаковое количество смен. Но разобраться в этом никто не пытался — себе дороже: придешь к заведующей, спросишь у нее — она в ответ накричит и на два месяца лишит всяких выплат.
Друзья поневоле
Однако вскоре нам с заведующей пришлось закопать топор войны: началась пандемия и стало не до внутренних разборок. Когда к нам стали поступать первые больные с коронавирусом — все боялись, были в шоке, не знали, как с таким работать. А я тогда был еще неженатый, мне было нечего терять, я сказал, что мне не страшно: я хочу спасать людей, и меня можно меня кидать на амбразуру. Я тогда рассуждал: «Ну, умру и умру, зато успею кого-то вылечить, прежде чем это случится».

К нам в больницу привозили людей со всей области, у которых был не только ковид, но и патологии, требующие хирургического вмешательства: все те же аппендициты, тромбозы, кишечные непроходимости и так далее. У нас в регионе по сравнению с другими смертность была не такая высокая, но все равно очень многие пациенты умирали. Нам привозили людей, которые были в очень тяжелом состоянии и которых надо было срочно оперировать. А любое хирургическое вмешательство усугубляет течение основного заболевания, поэтому, к сожалению, не все выживали.
Это было, конечно, очень тяжело: работать дни и ночи напролет и все равно терять людей. Но если бы мы сдались, смертей было бы еще больше. Поэтому я думал о тех, кого удалось спасти, и продолжал вкалывать.
Истории со счастливым концом тоже с нами в пандемию случались. Однажды мне позвонила Анна Николаевна Кружкова, бывшая у нас в ту пору главврачом, попросила забрать пожилую женщину из села в 200 километрах от Калуги и привезти к нам в больницу скорой помощи. У нее было поражено 75% легких из-за коронавируса, она не могла дышать без ИВЛ. Все три часа, что мы ехали до больницы, я держал маску с кислородом у нее на лице, следил за тем, чтобы у нее создавалось положительное давление в легких на выдохе. Периодически ей нужно было отдышаться, побыть какое-то время без маски. И я с ней разговаривал, чтобы ей не было так тревожно. Человек пожилой, в тяжелом состоянии, она не очень понимала, зачем и куда я ее везу.
В итоге оказалось, что эта женщина — подруга моей матери, с которой они когда-то давно работали вместе. Мы в больнице ее выходили, и она до сих пор через маму шлет мне приветы — считает, что мы с коллегами спасли ей жизнь, благодарит за это.
Коронавирусные времена еще здорово сплотили коллектив: раньше врачи из разных отделений не особо между собой общались, а в пандемию все передружились, появилось ощущение, что мы вместе делаем важное общее дело.
После пандемии, однако, все вернулось на круги своя. Нам урезали зарплаты, мы перестали получать президентские надбавки. Я к тому моменту женился, обзавелся ипотекой и у нас с женой родилась дочка. В ноябре 2022 года я понял, что мне надо искать способы зарабатывать больше, и устроился на вторую работу в частную клинику. Работать на двойной ставке в нашей больнице было не вариантом. Все дело в том, что вторая ставка оформляется как внутреннее совместительство, и в итоге медицинские работники, работающие на ставку, получают 60–70 тысяч рублей, а люди, работающие на две, — 100 тысяч рублей вместо 140. Гораздо выгоднее совмещать работу в разных учреждениях.
Прежде чем пойти работать в частную клинику, я подошел к заведующей нашего отделения и честно ей во всем признался — что у меня ипотека, маленький ребенок и жена в декрете, мне нужна хорошо оплачиваемая подработка, поэтому я устроился в частную клинику. Я попросил ее выкроить мне график дежурств сутки через трое, чтобы я мог сутки работать у них и потом два дня ходить подрабатывать в другом учреждении. Заведующая спросила, запросил ли я разрешение у главврача, прежде чем устраиваться на вторую работу. Я ответил ей, что делать это был не обязан, но все равно пришел к ней и в открытую обо всем рассказал. Она сразу сказала, что мое основное место работы здесь и подстраиваться под меня она не станет. Я уже тогда понял, что спокойно работать в двух местах она мне не даст.
Так и получилось. Мои смены удивительным образом выпадали на дни, когда я просил меня не ставить, и у меня не всегда получалось приходить на работу в частную клинику, когда меня там ждали. Но люди там были в курсе моей ситуации, очень ценили меня как профессионала и шли мне навстречу.
Работа в частной клинике сильно отличалась от работы в больнице скорой медицинской помощи. И мне понадобилось какое-то время, чтобы настроиться на новый лад. Во-первых, в частную клинику ко мне приходили люди, которые предварительно делали полное обследование, и мне не нужно было угадывать, какие неизвестные мне патологии у них могут выскочить во время анестезии.
Работать в клинике было проще еще и потому, что там никогда не заканчивались расходники, а вместо закиси азота при анестезии использовался Севоран. После такой анестезии пациенты просыпались в таком хорошем состоянии, что могли бы при надобности сами слезть с операционного стола и без чьей-либо помощи дойти до палаты.
Начальство в частной клинике еще всегда предлагало докупить какие-то недостающие мне препараты. Так и говорили: «Напиши список того, что нужно, — мы все купим». Я сидел еще, высчитывал, какие препараты заказать подешевле, пытался сэкономить. Но в итоге понял, что экономить необязательно, и выбрал средний вариант, который удовлетворил бы и меня, и пациентов. О пациентах в частных клиниках заботятся, хотят, чтобы к ним пришли еще. А в государственной больнице даже в случаях платных процедур о пациентах и их комфорте совсем не думают.
Например, у нас в БСМП часто назначали колоноскопию на вечер. Человек до самого вечера должен был ходить голодным. Это лишний стресс для человека и его организма, но начальству было наплевать. Утром они эту процедуру не назначали, потому что в это время у нас проходила двухчасовая летучка, в ходе которой мы обсуждали, кто пролайкал посты главврача в соцсетях.
Работая на двух работах, я также старался развиваться: ездил на различные курсы повышения квалификации, получил второе образование по трансфузиологии (дисциплина, включающая вопросы переливания и консервирования крови, разделения ее на лечебные и диагностические препараты. — Прим. «Холода»). Учился в Склифе заместительной почечной терапии, которой мы должны были заниматься в больнице. У нас для того был специальный аппарат, но использовать его на постоянной основе никак не получалось, потому что не хватало элементарных расходников — катетеров и растворов. У нас считалось, что если ты раз в месяц поставишь больному «искусственную почку» — ты уже молодец. Но этого мало, при наличии расходников заместительную почечную терапию можно было бы проводить гораздо чаще.
В прошлом году я обучился проводниковой анестезии в Нижнем Новгороде. Этот метод позволяет врачу заморозить конкретный участок конечности, на котором он делает операцию, так, чтобы пациент мог оставаться в сознании и ему было не больно. Все современные клиники пытаются по возможности уйти от общей анестезии и внедряют методики периферических блокад нервов. У нас же в больнице так не работало. У нас не было препаратов длительного действия, только лидокаин, которого хватает на полтора-два часа. Для проведения такой анестезии также необходимы нейростимуляторы и действующий УЗИ-аппарат — он нужен для того, чтобы понимать, куда ты ставишь иглу, правильно ли проводишь блокаду нерва.
У нас в отделении реанимации был аппарат, которым пользовались и смежные специалисты. Не знаю, что именно произошло, но начальство однажды сказало, что его сломали урологи, которые постоянно брали его у нас для проведения своих хирургических манипуляций.
Аппарат в итоге починили, но возвращать его к нам в отделение начальство отказалось: сказали, что надо было бережнее обращаться с предыдущим и не отдавать его в соседнее отделение. После починки его отправили в отделение ультразвуковой диагностики, а мы остались без УЗИ-аппарата, и я пять лет проводил катетеризацию центральных вен дедовским методом, без какой-либо визуальной навигации. Опирался только на какие-то внешние ориентиры и действовал на свой страх и риск. Нас якобы наказали за то, что мы не следили за аппаратом. Но это еще большой вопрос, кого наказали — нас или пациентов?
Стук в пустую комнату
Как-то в феврале этого года в ординаторской опять зашел разговор о проводниковой анестезии. Заведующая начала говорить, что местная анестезия — дело хирургов и травматологов, а не анестезиологов, и грозилась отдать и так небольшие запасы нейростимуляторов в хирургию. Для меня ее слова оказались триггером: у нас и так нет нормальных препаратов, мы работаем без УЗИ-навигации, так еще и нейростимуляторов она нас лишит! Я ей так и сказал: «Вы вообще все у нас отнимите, и останется нам только людей закисью азота душить». Она остро восприняла мои слова: сказала, что у мне никто не давал право голоса, что я никто и звать меня никак, раз я работаю всего лишь на одну ставку в больнице.

Я спросил ее, что именно она считает работой на одну ставку. То ли, что мне приходится работать и реаниматологом и анестезиологом, то ли, что я провожу по несколько анестезий одновременно и работаю по девять суток в месяц, вместо семи? Тогда она пообещала, что в следующем месяце переведет меня с суточного графика на тот, при котором мне пришлось бы выходить на работу в больницу каждый день. Я объяснил ей, что так не смогу ходить на вторую работу, но ей на это было наплевать. «А меня это не волнует, у тебя здесь основное место работы», — сказала мне она. В ответ я взял бумагу и написал заявление об увольнении. Дал ей его на подписание, и она его подписала. У людей в ординаторской, конечно, глаза полезли на лоб от этой сцены. Тем не менее я не шутил — отработал две недели и ушел из больницы.
Я считаю, что если в государственных больницах, начальство прислушивалось бы к мнению врачей, спрашивало у них, с каким оборудованием и препаратами они хотят работать, какие методики развивать, чтобы гарантировать лучший исход для пациента, врачи бы не уходили пачками, как это случается сейчас.
Это большое заблуждение — считать, что врачам нужны только деньги. Нам также важна самореализация, нам хочется развивать инновационные методики и лечить людей с помощью передовых технологий. В государственных же больницах в людях убивают инициативу, ругают их за любую попытку попробовать что-то новое. Врачи ведь редко предлагают закупить какие-то космически дорогие препараты и аппаратуру: мы не оторваны от реальности и представляем, что больница не может себе их позволить.
Например, я никогда не предлагал нашей больнице развивать лечение моноклональными антителами, которое стоит миллионы рублей. И не просил работать с ксеноном — идеальным анестетиком, который может стоить больше 100 тысяч рублей за одну анестезию. Я хотел работать с обычными препаратами экстренной помощи — антибиотиками, обезболиванием, инфузионными растворами, парентеральным питанием (способ введения питательных вещества в организм пациента внутривенно в обход желудочно-кишечного тракта. — Прим. «Холода»), пульсоксиметром (специальная прищепка на палец с сенсором. Этот аппарат измеряет одновременно пульс и уровень кислорода в крови. — Прим. «Холода»), системами автоматического измерения артериального давления, ультразвуком. Элементарными инструментами, которые должны быть в арсенале у любого анестезиолога.
У нас же получалось так, что наша больница хвасталась какими-то передовыми технологиями у себя в соцсетях, собирала лайки под постами о своих достижениях. А на деле у нас анестезистки за свой счет покупали периферические катетеры, мы работали без УЗИ-аппарата. Наши коллеги в Вязьме, маленьком городке на 50 тысяч человек, работали с ультразвуком, а у нас в Калуге его не было.
Несколько лет мы работали и без аппарата КЩC (с его помощью можно отследить целый ряд показателей крови, в том числе ее газовый состав и кислотно-щелочное состояние, что позволяет оценить тяжесть дыхательной недостаточности у пациента. — Прим. «Холода»). Его купили только во время ковида, потому что тогда без него уже было не обойтись. Но и когда он у нас появился, проблемы не прекратились, потому что часто на него заканчивались расходники. Так-то аппарат КЩС должен работать как «Калашников». А у нас он частенько был выведен из строя. Иногда я мог отработать смену и только потом вспомнить, что нам завезли расходники, просто потому что привык обходиться без него.
Если бы я работал в московской клинике и с утра не взял шприц, чтобы исследовать кислотно-щелочное состояние крови пациентов, на меня посмотрели бы косо. Спросили бы, почему я этого сразу не делаю, чего жду. У врача должна быть сформированная привычка так делать, а я привык, что у нас ни хрена нет. У нас в больнице нередки были случаи, когда мне надо было прокапать пациента в отделении, а мне сестры говорили: «Доктор, у нас физраствора мало совсем осталось».
Все, кто пытался обратить внимание начальства на то, что все это ненормально, в итоге уволились. А остальные понимали, что это стук в дверь пустой комнаты. Как живут эти люди — в принципе живет вся Россия. Все постоянно чего-то боятся: смены места работы, того, что новую работу не найдут, или того, что до нее придется добираться на 10–20 минут дольше, чем до предыдущей. У всех ведь семьи, кредиты и ипотеки. И единственное, чего они хотят, — стабильности. Больше их ничего не волнует. Ну, не хватает расходников, так это не впервой, мы и без них работали, так и будем работать.
Некоторые коллеги постарше так вообще любили приговаривать: «Скажи спасибо, что хоть что-то есть, в 1990-е мы на масках наркозы давали». А я не буду говорить спасибо, меня вообще не волнует, как все было в 1990-х. Давайте еще времена Великой Отечественной войны вспомним! Я хочу, чтобы у нас сейчас все было, как у всех, нормально. Чтобы мы шли в ногу со временем, соответствовали современным реалиям и не оглядывались назад с благодарным лепетом про «было хуже»!
Читайте продолжение истории Александра на «Холоде» на следующей неделе.